То, что вы хотели узнать о литературных течениях, но боялись спросить школьную учительницу
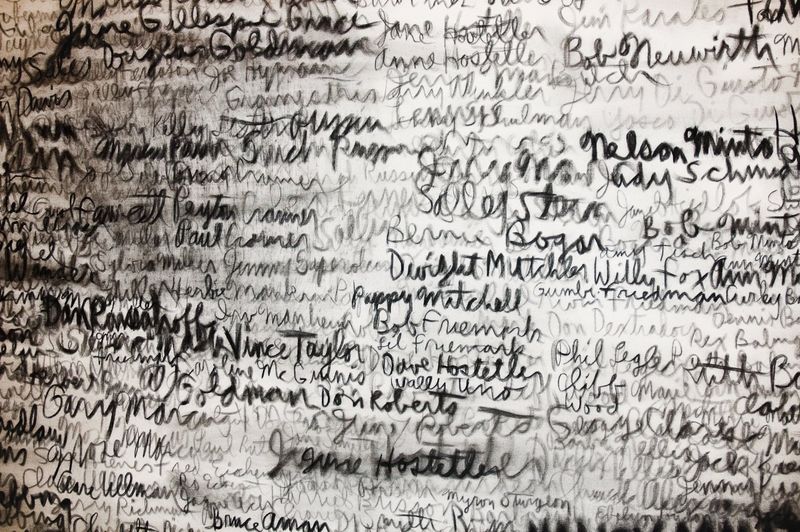
Для тех, кто не разбирается в литературных течениях, но очень хочет наконец понять, чем сентиментализм отличается от романтизма, читайте это эссе, которое я пишу под чашку крепкого чая и вздохи собаки.
Начну с классицизма. Классицизм из своего XVIII века мужиками в буклях смотрел назад, в античность, откуда радостно черпал вдохновение. Всё строго. Конфликты — социальные. Вершина всего — разум. Персонажи четенько делятся на добрых и злых. Да, никакой психологии, всё черно-белое: либо отъявленный подлец, либо святой святец. Фамилии — говорящие. Назвал персонажа Кисломордовым или Обрюхатовым и, считай, создал характер. Крайне удобно. Текли по этому течению Тредиаковский, Мольер, Фонвизин, Ломоносов и др. ребята в париках и рисовой муке.
Но рационализм и сухость, пусть торжественная, надоели. Захотелось в душу. А душа — это про чувство. И вот на смену морали приходит сентиментализм. Основа этого течения — слезы и обмороки, потому что, по мнению сентименталистов, иначе показать силу чувств нельзя. Закатил истерику — умеешь любить. Стоишь в сторонке, дырку на шторе изучаешь — равнодушная свинина. Важный герой сентиментализма — природа. Именно на ее материнском лоне происходят различные чувственные эксперименты. Вспомните бедную Лизу, чей последний девственный стон слышали только белки да Эраст. Из авторов здесь у нас Карамзин, Стерн, Жан-Жак Руссо и проч.
Но надрыв тоже в конце концов приелся. Людям захотелось понять, откуда берется чувство. Им понадобилось заглянуть глубже в человеческие потемки. Народ заинтересовался психологизмом. Так возник романтизм. Но, как это часто бывает, чтобы дойти до сути, нужно поболтаться из крайности в крайность. Поэтому романтистов сначала так сильно увлек полудемонический образ главного героя — одинокий, трагичный, но при этом мятущийся и не находящий отрады в этом мире. Типичный лирический герой Лермонтова. Или помните демона Онегина из эротического сна Татьяны? Ну вот он — зазноба дев первой половины XIX века. Над таким героем работали юный Пушкин, Лермонтов, Мериме, Жуковский, Гюго и иже.
Романтизм, несмотря на свое всестороннее очарование, тоже приелся. В конце концов, сколь бы (обожаю частицу бы, как ее ловко можно в любое место определить) привлекательным ни был мрачный герой, людям надоело выковыривать изюмины тайны из мятущегося романтика. Авторы обратили взор на обыденность. Грянул реализм. И растрепал почти весь XIX век.
Обожаю реализм, конечно. Есть где разгуляться, ибо он отзеркаливает живую жизнь во всех ее проявлениях. Герои наконец-то — обыкновенные люди, а не вымытые в уксусе ублюдки или инкрустированные слезами херувимов праведники. Авторы создают индивидуальные образы, но замечают при этом типическое. Например, Обломов уж на что неповторимый персонаж, но Гончаров его детство рисует в типичной сонно-дворянской атмосфере. Или Базаров. Индивидуален, свеж, но при этом образ героя отлично клеится ко всем, кто подавляет чувства разумом. Даже Раскольников, кажущийся ну совсем не от мира сего, вполне отзеркалит какого-нибудь затейника с психозом. Реализм прекрасен в том числе своими открытыми концовками. Как говорил Чехов, в жизни нет закрытых финалов. Пушкин, вовсю пародировавший своим «Онегиным» романтический роман, оглушил читателей реалистической концовкой без конца. Воображаю изумление тогдашней публики. Ну, Пушкин, ну сукин сын!
Реализм — про психологию. Достоевский, Чехов, Толстой, Бальзак, Цвейг, Бунин — матерые психологи. Закрывают гештальты с одного пинка, как сквозняк — форточки.
Но завершился XIX век, начался XX. С ним родилось и новое течение — модернизм. Модернизм, подражая взъерошенной реальности, разошелся на множество поднаправлений, среди которых символизм, акмеизм, футуризм и так далее. Они разные, но все же есть общая жила — попытка авторов нового поколения отринуть надоевший реалистический стиль: «вижу лампочку, пишу о лампочке». Теперь лампочка могла означать любовь, тлен, осень или всё сразу (символизм); быть ясной метафорой, например, искусства (акмеизм); писаться «лампкачка» и болтаться между ног у поэта (футуризм); разбиться спьяну или высветить березку (имажинизм).
Если авторы эпох классицизма, романтизма, реализма и модернизма пытались разобраться в сущности бытия, чтобы нацедить из него смысла жизни, то начиная примерно со второй четверти XX века они это дело бросают.
Идут войны, беснуются революции; история пестует гения, чей мрачный образ выкристаллизуется в лике диктатора. Всё это безумие невозможно понять без вывиха нервной системы. Поэтому тексты постмодернистов не описывают реальность — она слишком абсурдна — а как бы создают ее заново, но через творения предшествующих эпох. Отсюда в постмодернистских произведениях огромное количество аллюзий и цитат. Нельзя понять «Парфюмера» Зюскенда, «Улисса» Джойса или романы нашего Пелевина без начитанности и, как говорят живописцы, насмотренности. Точнее, понять можно, но только сюжетно. Хотя и сюжеты в постмодернистких текстах часто фрагментарны или вообще вывернуты наизнанку.
Главное оружие постмодерниста, как и любого, кто лишен надежды, — ирония. Авторы иронизируют над всем, включая сам текст, словно пытаясь внушить читателю тщетность поиска какого-либо смыла. Постмодернистский текст изворотлив, речист, насмешлив и карикатурен. Потому что реальность в глазах автора — карикатура на самое себя. Творец умер, текст творит себя сам, иногда при помощи читателя (правда, это всё равно не имеет смысла). Герой постмодернизма — это такой антигерой. Он ничего не ищет, ничего не ждет и всё отрицает. Он как бы путешествует по тексту, являясь сразу и творцом и творением. Впрочем, до такого перекрестия еще Пушкин в «Евгении Онегине» допёр. Вспомните, как альтер эго поэта — вымышленный герой-лирик — дружит с Онегиным и читает письмо Татьяны. В общем, Пушкина и там и тут передают.
Что касается нашего с вами времени, то с точки зрения литературного течения его описывают как метамодернизм, авторы которого провозглашают «конец истории».
Суть метамодернизма — колебание от постмодернистской иронии и желания всё обратить в фарс к искренности и новой надежде на возрождение. Но это колебание всё равно не приводит к балансу, потому что — и вы сами, думаю, видите это в культуре — когда восторг дорастает до фанатизма, рационализм направляет его обратно к иронии; но тут же ирония колеблется в сторону апатии, и тогда рационализм пинает ее обратно к полюсу фанатизма. Именно на этих качельках «ирония — искренность» куражится термин «постирония». Постирония — такая ирония, которую сложно или невозможно отличить от серьезности.
Примеры метамодернистских текстов: Уоллес «Бесконечная шутка», Янагихара «Маленькая жизнь», Поляринов «Центр тяжести». (Я не читала, поэтому не знаю, хороши или плохи эти произведения.)
В общем, если чуть проще: мир метамодернизма обречен на катастрофу, но всё равно полон надежды. Как оно дальше пойдет — увидим.


